|
Содержание сайта =>> Российское гуманистическое общество =>> «Здравый смысл» =>> 2004, № 1 (30) |
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ Зима
2003/2004 № 1 (30)
ЦЕРКОВЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
 Русская
религиозная традиция
Русская
религиозная традиция
и образование
|
Господство
старого мировоззрения над образованным обществом составляет уже такое
отдалённое и неясное предание, что интеллигентные снобы могут свободно идеализировать
это мировоззрение и безнаказанно мечтать о его реставрации. |
|
П. Н. Милюков |
Русская культурно-историческая традиция, исполненная «резко континентальных» колебаний температур, знает два типа отношений между образованием и религией. Первый связан с господством религии над обществом и светской культурой, в частности образованием. Второй, напротив, характеризуется жёстким подчинением церкви государственной власти с тем, чтобы не мешала проводить широкомасштабные программы модернизации общества (и образования) – это, прежде всего, эпохи петровских реформ и советской власти. Подобная полярность связана не только с особенностями исторического климата и общества, которое в этом климате формируется, но и с особенностями церкви, которую это общество выбирает и канонизирует.
Эту культурно-историческую логику очень тонко уловил родоначальник русской культурологической мысли Павел Николаевич Милюков (1859‑1943) в своих «Очерках по истории русской культуры». Одно из достоинств этого фундаментального исследования состоит в том, что его автору удалось провести сравнительно-исторический анализ русской религиозной традиции, её принципиального отличия от западноевропейской религиозности, а также тех трудностей и тупиков, которые в этой связи вынуждены были пройти русская наука и образование на пути к торжеству светской гуманистической культуры. Есть смысл воспользоваться этим исследовательским опытом для экстраполяции его результатов на современную непростую ситуацию с наукой и образованием в России.
Содержательную эволюцию европейской культуры Милюков видит в исторически непрерывном, растянувшемся на века переходе от жёстких религиозно-догматических её форм ко всё более секуляризованным, хотя и не теряющим связи с первоисточником. В гегелевской терминологии это означает эволюцию от абсолютного господства позитивной религии над философской партией и народной религией к торжеству религии разума, в которой личность верующего, его право на собственную поступь в вопросах веры становятся преобладающими над какой-либо позитивностью. Эволюция европейской культуры ставится в зависимость от эволюции европейской религиозной традиции. Но то, как она проходила в Западной Европе и в России, составляет предмет специального рассмотрения, весьма важного сопоставительного анализа.
Западноевропейская церковь с первых шагов своего существования со всей решительностью стала проводить духовно-нравственную реформу варварского общества, в котором ей пришлось действовать. В результате уже к исходу средних веков в Европе практически не осталось и следов старого языческого мировоззрения. Однако особенность этого процесса состояла в том, что «церковь и сама пострадала и загрязнилась во время этой черной работы», что на выходе «получилось не чистое христианство первых веков, а какая‑то амальгама старых и новых верований». С точки зрения православия, был совершён большой грех, ибо для него крепость веры – в её абсолютной неизменности. Западная же церковь «предпочла пустить в оборот вверенные ей идеи, с риском подвергнуть их искажениям, чем хранить их неприкосновенными под крепким запором. В результате она вызвала в обществе активное отношение к теоретическим и нравственным истинам веры. Не отделяя учения от жизни, церковь, конечно, рисковала – как верно заметили славянофилы – упустить из рук руководство жизнью. Вера становилась личным делом и заботой каждого. Религия выигрывала от этого в той же степени, в какой проигрывала церковь» [1, с. 469‑470]. Однако, как показала история, риск оправдался, ибо в конечном счёте общество ответило церкви своей благодарностью: никакого испепеляющего её основы социального движения не возникло, и естественный процесс секуляризации – обмирщения религиозного сознания – приобрёл вполне цивилизованные формы. Причём тем более уважительные к церкви, чем большую готовность к собственному изменению и движению навстречу живой человеческой мысли она проявляла.
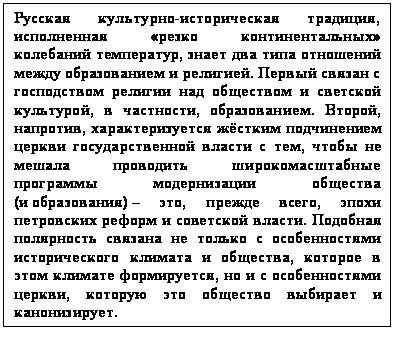 Милюков
так подытоживает результаты Реформации и Контрреформации для Западной церкви:
«В романских странах ей снова удалось овладеть положением; в
германских – она была унесена общим потоком. В обоих случаях разрыв
со старыми верованиями совершился бесповоротно» [1, с. 470].
Наверное, выражение «унесена общим потоком» слишком сильно для характеристики
протестантской миссии слияния религиозности с реальным жизненным процессом
людей, ведь она не растворилась в нём и не исчезла. Но оно в полной мере
отражает отказ протестантской церкви от довлеющего и возвышающегося над жизнью
общества положения.
Милюков
так подытоживает результаты Реформации и Контрреформации для Западной церкви:
«В романских странах ей снова удалось овладеть положением; в
германских – она была унесена общим потоком. В обоих случаях разрыв
со старыми верованиями совершился бесповоротно» [1, с. 470].
Наверное, выражение «унесена общим потоком» слишком сильно для характеристики
протестантской миссии слияния религиозности с реальным жизненным процессом
людей, ведь она не растворилась в нём и не исчезла. Но оно в полной мере
отражает отказ протестантской церкви от довлеющего и возвышающегося над жизнью
общества положения.
Это последнее Милюков убедительно показывает на примере англичанина Нового времени, который, «отказавшись от папы, скоро повернулся спиной и к королю, как главе церкви, и решился самолично заняться собственным спасением. При всяком повороте собственной мысли в сторону, при всяком движении её вперед он добросовестно переделывал по новой мерке и тот церковный футляр, в котором должна была умещаться новая религиозная идея. При такой гибкости религиозных форм, при такой их податливости – к чему ему было ссориться с религией или выбрасывать её за борт? (курсив мой. – В. Ж.) [1, с. 470].
Эта последняя фраза, кажется, напрямую обращена Милюковым к опыту русской революции, которая осуществлялась в условиях, прямо противоположных английским: при полной неподатливости церкви на глобальные культурные и политические изменения. Ведь церковь, объявляющая анафему новой политической власти, встающая на путь вооружённого сопротивления, не может рассчитывать на снисхождение, происходит переворот во всей системе секуляризационных процессов и образовавшийся вакуум сакральности лихорадочно заполняется квазирелигиозными формами новых идеологем. Разумеется, такое не могло продолжаться долго без примиряющего начала между старой и новой верой, между русской православной церковью и новым коммунистическим движением, парадоксальным образом сочетавшим в себе старую и новую сакральность со старой и новой секуляризацией своих культурообразующих и идейных основ.
Однако Милюков, кажется, не озабочен этой проблемой. Предмет его рассмотрения составляет «образованный русский, который в большинстве случаев относится к своей вере совершенно безразлично». Тем самым возникает антитеза англичанина, проявляющего живое участие в делах религии и не встречающего в этом сопротивления со стороны церкви, столь податливой на движение живой религиозной мысли, и русского образованного, уставшего от догматической неподвижности и холодности своей церкви и поэтому ставшего «совершенно безразличным» к своей вере. Милюков не случайно проводит различие между образованным русским и простолюдином, который, прежде чем последовать за первым, поверял себя опытом сектантской религиозности. Хотя суть и того и другого была той же – отчуждение по отношению к делам позитивной веры. В этом основном пункте Милюков находит прямую аналогию русского с французом. Они одинаково отличны от англичанина в вопросах организации своих отношений с официальной религией:
«Совсем иное встречаем в религиозной истории Франции. Старый религиозный костюм оказался здесь сшитым из крепкой материи, и, когда новому европейскому духу стало в нем тесно, все усилия освободиться от этого костюма оказались тщетными. Церковь отказалась здесь следовать за ростом человеческого духа. Поэтому свободная светская мысль принуждена была прикрываться старыми рамками в своей новой работе: ей не было дано возможности облечь новое содержание в новые формы с той положительностью и добросовестностью, с какой мог это сделать британский гений. Однако это условие должно было приучить французскую мысль к обходам и увёрткам, отключить её от положительной, творческой работы к отрицательной, критической и отравить её отношение к старому мировоззрению дней её юности. Вот почему, когда долго копившееся раздражение прорвалось наконец наружу и когда наступил момент решительного разрыва, философская и публицистическая мысль Франции сразу покончила с прошлым и могла относиться к нему только с ненавистью и насмешкой…
 Нетрудно понять после всего этого, почему образованный
англичанин до сих пор любит свою религию и почему образованный француз иногда
до сих пор её ненавидит, а иногда – что ещё хуже, потому что ещё дальше
отодвигает её в прошлое, – мечтает о ней как о своего рода потерянном рае»
[1, с. 471].
Нетрудно понять после всего этого, почему образованный
англичанин до сих пор любит свою религию и почему образованный француз иногда
до сих пор её ненавидит, а иногда – что ещё хуже, потому что ещё дальше
отодвигает её в прошлое, – мечтает о ней как о своего рода потерянном рае»
[1, с. 471].
Это последнее похоже не только на славянофилов, но и на современную ситуацию в России, с той лишь разницей, что к этой «мечте» об утраченной церковности у нас явно примешиваются выраженные политические стремления придать церкви государственный вес. Насколько это политически адекватная тенденция, покажет ближайшее время, но культурологический смысл ясен уже сейчас. П. Н. Милюков из своей эпохи даёт уроки Н. С. Михалкову в его интеллигентском «бдении старины»: «Господство старого мировоззрения над образованным обществом составляет уже такое отдалённое и неясное предание, что интеллигентные снобы могут свободно идеализировать это мировоззрение и безнаказанно мечтать о его реставрации».
«Всякому известно, что образованный русский, в большинстве случаев, относится к своей вере совершенно безразлично. За это его очень часто и сильно бранят. Но вина и на этот раз, если нужно искать виновного, лежит не на нём, а на истории. Нам говорят, что он изменил своей истории и поэтому стал индифферентистом. Мы находим, напротив, что в этом отношении он остался верен всему ходу русской истории» [1, с. 471].
Каждое из этих положений в высшей степени актуально и созвучно общественным умонастроениям нашего времени. Действительно, надежды на абсолютную реставрацию былой догматической святости – тщетны. Ибо возврат в детство с его родительским теплом (когда родители – наши боги) хотя и возможен, но лишь в форме старческого маразма. Это не исключает достаточно высокого общественного статуса церкви, но это совершенно исключает усилия по её искусственной государственной накачке. За всем этим стоит не только необратимость истории, но и особенность русской религиозной истории.
Милюков не только сближает позиции французской и русской религиозности перед лицом английской традиции, но и находит существенные различия между ними. Если «старый религиозный костюм» француза отличался особой крепостью, которая складывалась из прочности догмата в сочетании с развитой системой его интеллектуального обоснования богословием, то русская традиционная религиозность напоминала рубище, как особый предмет гордости, – абсолютная незыблемость догмата при абсолютном минимуме его обоснования, то есть полная противоположность английской религиозности.
«Русская церковь в первые века своего существования была слишком слаба по составу своих представителей, чтобы принять на себя задачу, которую западная церковь выполнила относительно средневекового общества. Влияние церкви на немногих представителей высшего класса, отмеченное летописями, не опровергает этого общего заключения. Последствием слабого воздействия на общество было то, что языческая русская старина надолго осталась неприкосновенностью и в течение веков мирно уживалась рядом с официальными формами новой веры. Продолжительность этого периода двоеверия, несомненно, составляет одну из особенностей русской культурной истории» [1, с. 472].
Итак, если первая особенность русской религиозности связана с феноменом двоеверия, то вторая особенность состояла в пристрастии к внешним формам религиозности, которая складывалась как из собственно византийской традиции пышности обряда, так и из конкретной направленности русской творческой мысли: «В обществе, которое должно было ещё приучиться хотя бы к соблюдению внешних форм религиозности, вера должна была приобрести характер обрядового формализма, ритуализма». Но и тут первые шаги национально очерченного, идущего от глубины народного духа религиозного творчества, столь характерного для XVI в., были скоро отвергнуты: «Представители русской церкви, с помощью своих иностранных (греческих) руководителей, скоро открыли, что эти результаты есть плод своей, местной русской работы. Они нашли, что национальная работа религиозной мысли стоит в явном противоречии со всяческим преданием. В результате этого рода работа была осуждена и должна была немедленно прекратиться… – и вообще деятельному отношению к делам веры сама власть поставила очень узкие пределы. Таким образом, церковь лишила общественную мысль её кровного достояния, которое она только что привыкла считать единственно верным и спасительным, и ничего доступного для массы не давала взамен» (подчеркнуто мной. – В. Ж.). Такова печальная роль патриарха Никона в истории русской церкви, в постигшем её расколе. Однако начавшийся культурный процесс уже нельзя было остановить, национальная мысль обрела выраженные очертания: «Отвергнутая церковью, она продолжалась вне церковной ограды; лишённая света, она велась во тьме; преследуемая, она продолжалась тайно. В XVII в. плоды этой религиозной работы перешли из тогдашних культурных слоев к народу и вызвали в народной массе такое оживление религиозного чувства, подобного которому до тех пор на Руси не было» [1, с. 472‑473].
Всё это ушло в «раскол», в самосожжение или в массовый исход в Сибирь, где стал формироваться особый культурный тип – русской религиозной отверженности. Как здесь не вспомнить старую культурологическую истину: секуляризация готовит себе историческую почву на путях раздвоения единого, появления множественности религиозных форм, как знака и символа их принципиальной относительности.
«Большинство паствы, заинтересованной в живой работе религиозной мысли, ушло теперь совсем из церковной ограды. Из оставшихся не все, конечно, были равнодушны к духовным запросам. Но религия в числе этих запросов уже не занимала у них первого места. К началу XVIII в. этот процесс первого национального "разрыва" уже приходил к концу, и активная роль в нем скорее принадлежала низам, чем верхам общества. Формально побеждала "культура", при содействии "цивилизовавшейся" власти. Фактически победа оставалась за успевшей сложиться духовной традицией» [1, с. 472‑473].
Но что это за «духовная традиция»? По сути, это традиция ортодоксизма, убеждённого нежелания совершать какую-либо умственную работу без прямой внешней угрозы наказания. Церковь сделала свое дело, выполнила свою великую историческую миссию, запустив определённую культурную традицию в общество, и вся ушла в официоз – в служение своей внешней форме и государству. Так случилось, что статус «культуры» и «цивилизованности» выступал лишь проформой чего‑то несравненно более существенного, и это существенное не спешило засвечиваться, а развивалось и копило силы в оппозиции к ним. Именно на этой глубине социокультурной динамики формируется первый импульс к развитию феномена русской интеллигенции, одновременно оппозиционной церкви и власти, но и наследующей их родимые пятна.
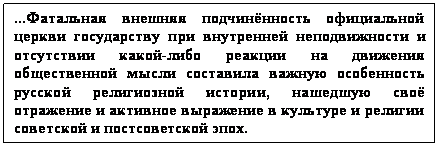 Оставленная
паствой, наиболее заинтересованной в живой работе религиозной мысли, церковь
оказалась один на один с могущественной государственной властью, которой и
раньше, в соответствии с византийской традицией обожествления монарха,
отдавалась пальма первенства. В новых условиях «русская церковь должна
была подчиниться требованиям власти и вошла в рамки других государственных
учреждений. Тогдашние вожди церкви приняли эту перемену не только добровольно,
но и охотно: она обеспечила им сохранение исключительно охранительного
характера церкви и освобождала от непосильной для них обязанности руководить
духовной жизнью страны» – не силой внешнего авторитета и данных властью
полномочий, но силой убеждения. Вот почему начиная с XVII в. церковь почти исключительно
«действовала по отношению к народной вере только как орган
правительственного надзора. Этому состоянию церкви вполне соответствовал
низкий умственный и нравственный уровень пастырей, превращённых в чиновников
духовного ведомства, и стационарное состояние учения веры, запертого в
стены духовной школы и довольствовавшегося пережевыванием полемических
аргументов западного богословия» *
(подчеркнуто мной. – В. Ж.) [1, с. 473].
Оставленная
паствой, наиболее заинтересованной в живой работе религиозной мысли, церковь
оказалась один на один с могущественной государственной властью, которой и
раньше, в соответствии с византийской традицией обожествления монарха,
отдавалась пальма первенства. В новых условиях «русская церковь должна
была подчиниться требованиям власти и вошла в рамки других государственных
учреждений. Тогдашние вожди церкви приняли эту перемену не только добровольно,
но и охотно: она обеспечила им сохранение исключительно охранительного
характера церкви и освобождала от непосильной для них обязанности руководить
духовной жизнью страны» – не силой внешнего авторитета и данных властью
полномочий, но силой убеждения. Вот почему начиная с XVII в. церковь почти исключительно
«действовала по отношению к народной вере только как орган
правительственного надзора. Этому состоянию церкви вполне соответствовал
низкий умственный и нравственный уровень пастырей, превращённых в чиновников
духовного ведомства, и стационарное состояние учения веры, запертого в
стены духовной школы и довольствовавшегося пережевыванием полемических
аргументов западного богословия» *
(подчеркнуто мной. – В. Ж.) [1, с. 473].
Эта фатальная внешняя подчинённость официальной церкви государству при внутренней неподвижности и отсутствии какой-либо реакции на движения общественной мысли составила важную особенность русской религиозной истории, нашедшую своё отражение и активное выражение в культуре и религии советской и постсоветской эпох.
Указанная особенность русской веры заслуживает более подробного рассмотрения, поскольку она в равной мере характеризует как её собственное своеобразие, так и исключительную особенность русской политической культуры и государственности, явленной в форме самодержавия – святой власти самодержца. А эта последняя имеет прямое отношение к исторической возможности огосударствления учения К. Маркса и превращения его в предмет поклонения и откровенно религиозного бдения в условиях изменившейся культурной ментальности XX в., а равно и новейшей тенденции институализации теории и практики воинствующего антикоммунизма.
Русская традиция взаимосвязи духовной власти церкви и светской власти царя восходит прежде всего к Византии. В конце XIV в. в послании русскому великому князю Василию Дмитриевичу константинопольский патриарх Антоний даёт важное поучение истинной христианской доктрины в отношении светской власти: «Святой царь занимает высокое место в церкви». «Цари собирали вселенские соборы». «Невозможно христианам иметь церковь и не иметь царя. Ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и невозможно отделить их друг от друга» [2]. Так закладывались проективные возможности по формированию самодержавия на базе древнерусской культуры. Но даже и сам выбор Владимира I Святославовича в пользу восточного христианства византийского образца был, очевидно, не в последнюю очередь связан с выраженной его особенностью – «откровенной сакрализацией светской власти». Сам образ императора и империи мыслится как буквальное низведение Царства Божия на землю. Можно с уверенностью утверждать, что «христианство и цезаристская идея священной державы в эпоху Константина встретились» и уже не разлучались никогда, во всяком случае, в той версии христианства, которую составила византийская, а затем и русская традиция.
С. Аверинцев даёт
исчерпывающее описание обожествления монархической власти в ранневизантийской
культуре. «Сама "персона" монарха мыслится как знак – знак
имперсонального». Фигура монарха вписывается в церковный ритуал в качестве живой
иконы. «Это уже не древняя концепция
непосредственной божественности монарха – это средневековая концепция
опосредованной и опосредующей соотнесенности персоны монарха со сферой
Божественного на правах живого знака или живого образа» [3]. Речь идёт о
фактически посреднической миссии государственной власти по отношению к
трансцендентному началу мира. В этом заключена прямая аналогия «не только
с традициями восточных деспотий, но и восточных мировых религий (ислам)».
Статус верховного правителя священной державы мыслится в качестве «наместника»
или «заместителя» Бога на земле. Вот почему представляется вполне убедительным
вывод И. В. Кондакова: «Фактически на века вперед самодержавие
(и в византийском, и в русском вариантах) выступает как социокультурная
форма существования восточного христианства (будущего православия); православие
же предстает как внутреннее оправдание культа светской власти (цезарепапизма)
нравственно-религиозным идеалом» [4].
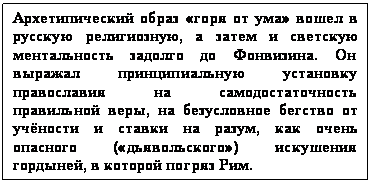 Верно и то, что эта ставшая универсальной
формула русской религиозной культуры воспроизводится не только в поворотные
эпохи XVI или XIX вв., но в не меньшей степени и в XX в. – в советскую эпоху, с той
лишь особенностью, что функцию «позитивной веры» должна была здесь сыграть
религия советизма, в конечном счёте примирившаяся с историческим
православием, а функцию самодержца – культ личности политического вождя,
будь то в форме «генерального секретаря» или «господина президента».
Верно и то, что эта ставшая универсальной
формула русской религиозной культуры воспроизводится не только в поворотные
эпохи XVI или XIX вв., но в не меньшей степени и в XX в. – в советскую эпоху, с той
лишь особенностью, что функцию «позитивной веры» должна была здесь сыграть
религия советизма, в конечном счёте примирившаяся с историческим
православием, а функцию самодержца – культ личности политического вождя,
будь то в форме «генерального секретаря» или «господина президента».
Таковы родовые особенности русской религиозной традиции: двоеверие
(наличие параллельного или теневого образа веры наряду с официальным),
обрядовый формализм, или ритуализм, внутренний ортодоксизм и,
наконец, вольный или невольный цезарепапизм. Именно эта традиция
составляет естественный историко-культурный фундамент, на базе которого
призваны были развиваться светский гуманизм русской интеллигенции и её
несокрушимая воля к подлинному демократизму социализированного гражданского
общества и обслуживающей его политической власти.
Характерно, что эти особенности русской религиозной традиции рельефно
раскрываются в логике развития русской школы, как бы сфокусированной на
пересечении линий церкви и государства. В традиции западной церкви лежало
отношение к школе как к важнейшему средству её воздействия на общество, причем
имелась в виду школа не в её духовном внутрицерковном употреблении, но школа
общеобразовательного плана. На протяжении веков западная школа находилась
исключительно в «духовных руках». Когда западное государство осознало
собственную потребность в решении задач народного просвещения, оно нашло поле
действия уже занятым. Борьба с клерикальной школой, за придание светского
характера образованию составила целую эпоху, которая и до сих пор, по мнению
Милюкова, не вполне завершена. «Эта традиционная независимость школы от
государства имела своим последствием то, что государство поневоле научилось
ценить самостоятельность школы. Однажды установившись, это отношение пережило
период господства церкви над школой, оно превратилось из уважения к самостоятельности
церкви в уважение к независимости науки» [1, с. 475].
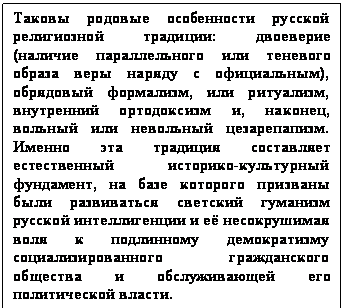 Нужно ли говорить, как это далеко от русской
культурной традиции, которую всегда отличало прямо противоположное: зависимость
от государства, от «воли государевой» – и церкви, и школы, и науки. Таким
образом, налицо формирование определённой культурно-исторической традиции,
которая должна была по‑своему проявиться и в советской, и в постсоветской
культуре, на стадии как их формирования, так и кризиса.
Нужно ли говорить, как это далеко от русской
культурной традиции, которую всегда отличало прямо противоположное: зависимость
от государства, от «воли государевой» – и церкви, и школы, и науки. Таким
образом, налицо формирование определённой культурно-исторической традиции,
которая должна была по‑своему проявиться и в советской, и в постсоветской
культуре, на стадии как их формирования, так и кризиса.
Один из центральных вопросов, способных многое прояснить в природе
русской религиозной традиции, звучит так: почему у нас «церковь, в период
своего преобладания в духовной жизни страны, оказалась не в состоянии устроить
школу – не только для распространения знаний в обществе, но даже и для
поддержания знаний в своей собственной среде»?
Ещё в начале XVII в.
Маржерет мог позволить себе констатировать, что «невежество русского народа
есть мать его благочестия: он не знает ни школ, ни университетов; одни
священники наставляют юношество чтению и письму, но, впрочем, и этим занимаются
немногие». Это высказывание понадобилось Милюкову для иллюстрации вопиющего
факта отсутствия не только образовательных учреждений, но и элементарной
грамотности на Руси, причём среди тех слоев, которые, казалось бы, по своему
призванию должны были нести эту грамотность в народ, – среди русского
духовенства. Способом обучения будущих священнослужителей было начётничество,
запоминание с голоса. Ни решение Стоглавого собора 1551 г., ни Собора 1666‑1667 гг.
о создании духовных училищ так и не были выполнены в полном объеме. Этому
препятствовала господствовавшая в православии партия «чистоты веры», которая
исходила из того, что всякое знание, а тем более мудрствование, противны вере и
способны только замутнить её чистоту.
В Западной Европе в XVI в. произошёл настоящий прорыв в создании целой системы средней и
высшей школы. В программы этих школ вошли грамматика, диалектика и риторика
как совокупность «тривиальных» знаний, а также предметы математической
группы – арифметика, геометрия, астрономия и музыка, которые венчались
философией и богословием. Упрощенная система религиозного образования исключала
математическую группу, но усиливала богословие. Эти веяния проникали в
южнорусское общество и упирались в непроходимую стену Московского государства.
В отпор новым научным стремлениям представители православия создали целую
теорию, согласно которой любовь к знанию представлялась изменой вере, развитие
ума вело к погибели души.
Православная доктрина усматривала в этих стремлениях одну гордыню и
напоминала, что именно гордыня была первородным грехом Рима. Гордость побудила Рим
искать опоры в человеческом разуме вместо Священного Писания и обращаться за
развитием разума «во тьму поганских наук», к Аристотелю и Платону. Не
«в художестве высшего наказания» (то есть высшего образования) заключается
сила духа, а в «вере смиренномудрия» – этот тезис сформулирован ещё на
рубеже XVI‑XVII вв. полемистом Иоанном Вишенским.
Западный рационализм увлекателен, но спасти может одна восточная вера. «Уния,
по‑славянски юная, – говорит Вишенский, – действительно
на вид красна и чудна, разумом хитра и мудра, но эта юная вера есть ложная и
непостоянная, от человеческого мудрствования вымышленная». Напротив, старая
православная вера, «хотя на вид некрасива и противна, разумом глупа и не хитра,
обычаем проста, ветха и неубранна, но зато это – коренная, неподвижная,
прочная вера, от Христа-фундатора основанная». Таким образом, истинная православная
наука должна быть «оградой благочестию» [1, с. 211].
Можно смело утверждать, что позиция православного полемиста Вишенского
проговаривала вслух то, что составляло фундамент «тайной доктрины».
Архетипический образ «горя от ума» вошел в русскую религиозную, а затем и
светскую ментальность задолго до Фонвизина. Он выражал принципиальную установку
православия на самодостаточность правильной веры, на безусловное бегство
от учёности и ставки на разум, как очень опасного («дьявольского») искушения
гордыней, в которой погряз Рим.
 В Западной Европе
система образовательных учреждений выстраивалась при активном участии церкви.
Более того, в этом воздействии на общество через сферу образования западное
христианство видело свое историческое призвание. Именно поэтому, когда пришло
время секуляризации, едва ли не главным участком фронта в отношениях между
государством и церковью в Западной Европе стала школа. Государству пришлось
буквально отвоевывать её у церкви в Новое время. В России, напротив,
церковь отстранилась от задачи созидания системы светского образования. Как мы
убедились, даже задача внутреннего духовного образования
священнослужителей – создание духовных училищ – не была
сколько-нибудь удовлетворительно решена.
В Западной Европе
система образовательных учреждений выстраивалась при активном участии церкви.
Более того, в этом воздействии на общество через сферу образования западное
христианство видело свое историческое призвание. Именно поэтому, когда пришло
время секуляризации, едва ли не главным участком фронта в отношениях между
государством и церковью в Западной Европе стала школа. Государству пришлось
буквально отвоевывать её у церкви в Новое время. В России, напротив,
церковь отстранилась от задачи созидания системы светского образования. Как мы
убедились, даже задача внутреннего духовного образования
священнослужителей – создание духовных училищ – не была
сколько-нибудь удовлетворительно решена.
Вот почему к порогу петровских реформ Русь подошла с таким состоянием
русской школы, которое требовало настоящей духовной (научной и образовательной)
революции. Как справедливо пишет П. Н. Милюков: «Не сделав ничего для
русского образования, господствующая партия сама поставила преобразователя в
необходимость всё делать самому и всё начинать сначала. Как и в других
известных нам случаях, Древняя Русь не завещала и здесь новой России никакой
культурной традиции. Вот почему и здесь новое водворилось так легко и оказалось
так чуждо старому» [1, с. 222].
Духовная традиция русской церкви, по Милюкову, состояла не в том, чтобы
покровительствовать и активно участвовать в развитии светской духовной
культуры – науки, образования, искусства, философии, – а в том, чтобы
насколько возможно сдерживать этот небогоугодный процесс «разжижения веры в
профанном мире». В этом смысле церковь не только не сопротивлялась
церковной реформе Петра, подчинившей её государству, но приняла её «добровольно
и охотно». Эта реформа освободила «вождей церкви» от «непосильной для них
обязанности руководить духовной жизнью страны».
Это во многом объясняет особую историческую роль русской интеллигенции,
этого «духовного ордена» светской культуры, детища Петрова. Уже в силу логики
культурно-исторического процесса она была обречена на протестантизм, но
протестантизм, рождённый не в недрах церкви, а вне её, как её антитеза. Это
обстоятельство только закрепило оппозицию образования, за которое теперь
отвечала интеллигенция, и религии, по традиции отождествлявшейся с официальной
церковностью. Отсюда понятно, почему новейшие попытки вторжения православной
догматики в образовательную сферу воспринимаются столь болезненно – нет
традиции, нет культуры и нет здравого смысла в определении форм и методов
такого рода новации. Разумеется, постсоветская интеллигенция несет на себе груз
вины за содеянное в годы репрессий, сама церковь сегодня предстает в ореоле
мученичества. Но даёт ли это основание для отказа от своей культурной истории,
от духовной реформации, которую пережила Россия в XX в.? Готовы ли мы дать карт-бланш
действительной контрреформации, тотальному наступлению фундаменталистских
тенденций в обществе, культуре и образовании? Явление антиинтеллектуализма,
захлестнувшее современную российскую социокультурную динамику, взывает к
исконному интеллигентскому духу: с кем вы, господа интеллектуалы? Есть
немалая разница между возвращением церкви и религии в традиционные сферы своего
залегания и тотальным воцерковливанием всей духовной культуры, включая её
исторически незыблемый светский компонент.
Парадокс нашего времени состоит в том, что на волне политического
реванша мы забыли о необратимости исторического развития, о том, что культурный
образец патриархальной эпохи не может служить ориентиром для
постпатриархальности. Провозглашённая Ю. Хабермасом эпоха постсекуляризма
не отменяет предыдущую эпоху тотальной секуляризации, а восстанавливает
утраченное равновесие в отношениях между светской и церковной традициями.
Именно этой логике, очевидно, и следует подчинять стратегию развития
образовательных программ, вскормленных светской духовной традицией русской
культуры.
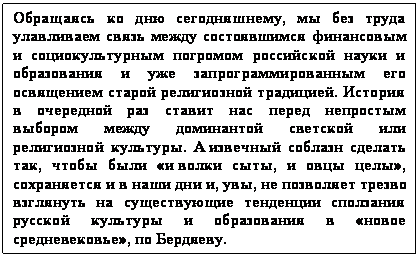 Немецкий неомарксист справедливо пишет о
необходимом существовании «тройной рефлексии верующего по поводу своего места в
плюралистическом обществе», без которой невозможна ни современная культура в
целом, ни современное образование в частности. «Религиозное сознание, –
замечает Ю. Хабермас, – должно, во‑первых, вырабатывать
когнитивно диссонантные отношения с другими конфессиями и религиями. Во‑вторых,
оно должно занять соответствующую позицию в отношении авторитета различных
наук, обладающих общественной монополией на мирское знание. Наконец, оно должно
встроиться в условия существования конституционного государства, основанного на
профанной морали. Без этого стремления к рефлексии монотеистические религии
проявляют в безоглядно модернизированных обществах весь свой деструктивный потенциал» [5].
Всё это имеет прямое отношение и к современной российской ситуации. Требование
«тройной рефлексии» во всей своей актуальности обращено сегодня и к российскому
государству, превратившему «рынок» в идола и тип нерефлексируемого религиозного
поклонения, и к русской церкви, заявившей права на своё духовное и нравственное
водительство в светском обществе, культуре, науке и образовании.
Немецкий неомарксист справедливо пишет о
необходимом существовании «тройной рефлексии верующего по поводу своего места в
плюралистическом обществе», без которой невозможна ни современная культура в
целом, ни современное образование в частности. «Религиозное сознание, –
замечает Ю. Хабермас, – должно, во‑первых, вырабатывать
когнитивно диссонантные отношения с другими конфессиями и религиями. Во‑вторых,
оно должно занять соответствующую позицию в отношении авторитета различных
наук, обладающих общественной монополией на мирское знание. Наконец, оно должно
встроиться в условия существования конституционного государства, основанного на
профанной морали. Без этого стремления к рефлексии монотеистические религии
проявляют в безоглядно модернизированных обществах весь свой деструктивный потенциал» [5].
Всё это имеет прямое отношение и к современной российской ситуации. Требование
«тройной рефлексии» во всей своей актуальности обращено сегодня и к российскому
государству, превратившему «рынок» в идола и тип нерефлексируемого религиозного
поклонения, и к русской церкви, заявившей права на своё духовное и нравственное
водительство в светском обществе, культуре, науке и образовании.
Обращаясь ко дню сегодняшнему, мы без труда улавливаем связь между
состоявшимся финансовым и социокультурным погромом российской науки и
образования и уже запрограммированным его освящением старой религиозной
традицией. История в очередной раз ставит нас перед непростым выбором между
доминантой светской или религиозной культуры. А извечный соблазн сделать
так, чтобы были «и волки сыты, и овцы целы», сохраняется и в наши дни и,
увы, не позволяет трезво взглянуть на существующие тенденции сползания русской
культуры и образования в «новое средневековье», по Бердяеву.
Примечания
1. Милюков П. Н.
Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т 2 Ч. 2
М.: Изд. группа «Прогресс-Культура», 1994.
2. Цит. по: Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. М., 1993. Т. 1. С. 371.
3. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 115‑117.
4. Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры: Учеб. пособие. М.: Аспект-Пресс, 1997. С. 98.
5. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? М.: Весь мир, 2002. С. 1204